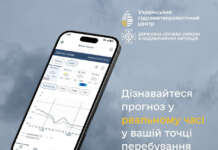Вот, как описывает Елена Розвадовская в издании gazeta.zn.ua кошмары жизни в поселке Зайцево:
«С 20 февраля КПП "Зайцево" снова открыт. Но тогда, три недели назад, этот поселок в "серой зоне", регулярно попадающий под обстрелы, боевики практически равняли с землей, обстреливая из 88- и 120-миллиметровых минометов.
"Какие дети, откуда? — удивлялись знакомые из Киева. — Там же сплошной ад".
Но дети там были.
И если вы думаете, что видели уже все, поезжайте в Зайцево, где все еще живут дети…
— Эй, стой! Где твой ребенок?
— Дома!
— Быстро домой, мы сейчас подъедем.
Из окна камуфлированного внедорожника Дато, особо не церемонясь, разговаривает с местным жителем.
Дато — грузин, воюет за Украину. В селе, где линия огня между Украиной и так называемой "ДНР" проходит прямо посреди его улиц, где живет больше солдат, чем осталось местных жителей, его знают все. В войне он понимает всё, но раз сто он очень резко и эмоционально переспрашивает меня, почему из Зайцево никто не вывез детей?
— Где ваше государство? Где какие-нибудь социальные службы? Ты бы слышала эти "фейерверки" ночью! Какими они вырастут? Если родители не вывозят, значит они — ненормальные, и должны быть какие-то органы, которые будут решать такие проблемы. Здесь война…
— Дато, спроси о чем-то попроще…
В начале военных действий чиновники всех уровней списывали свои недоработки на то, что мы не были готовы к войне. Но теперь это звучит комично — прошло без малого два года…
Кривая улыбка, горький ком в горле, мы едем дальше по непролазной грязи одной из улиц, конец которой упирается в наш крайний блокпост. Дальше, метров за триста-пятьсот — неподконтрольная территория. Нам туда нельзя, а дети пересекают линию огня постоянно.
Наши берцы чавкают по перепаханной танком дороге к покосившемуся забору, на котором большими белыми буквами написано "Дети". Заходим во двор: нам здесь не очень рады — мы же хотим их вывезти.
— Я пенсию получаю!
— Где получаешь?
— Там.
Зачем "там"?
— А как? На Украине у меня пенсии нет! Не доросла еще!
— Слушай, они приехали специально, чтобы вас забрать! Вы же слышите, что делается каждую ночь?!
— Ну и что? Пусть делается…
Это уже известный нам солдат Дато, а с ним капеллан Геннадий и волонтер Вячеслав вступили в неравную стычку с бабкой.
Бабушка трех внуков решила, что никто никуда с места не тронется. Мама же этих детей во всем ей послушна. Разговор на повышенных тонах то и дело сбирывается на крик. В полупустом селе, где ничего не работает, никто не хозяйничает во дворах и не ездит по улицам, а тишину нарушает лишь грохот передовой, этот крик, кажется, слышно даже на той стороне.
Всё это происходит на глазах у детей. Они сидят, словно тени, в комнате, куда с крыльца перебралась вся компания. На линии размежевания между нами своя линия конфликта — дети. Если с детьми не заговоришь, то и не узнаешь, умеют ли они говорить.
Старшая на вид девочка время от времени закрывает уши — ей не нравится весь этот шум.
Лиза, Настя, Иван и Артем сидят за прямоугольным столом у окна. Оконное стекло треснуло во многих местах и заклеено скотчем; сквозь него едва пробивается дневной свет, которого не хватает, чтобы осветить заваленную хламом комнату. Включенный телевизор с мультиком на экране — будто окно в ту реальность, где есть детство.
Моя миссия несравненно более приятна — поговорить с детьми. Я узнаю, что Настя, которой ей скоро исполнится двенадцать, пришла в гости, а живет с родителями по соседству. Старшей оказалась Лиза, ей тринадцать, Ивану — девять лет, Артему — семь.
— Как вы здесь живете? Молчание. (Что же я начала с такой глупости?..)
— Чем вы только что занимались?
— Рисовали, — отвечает за всех Лиза, без особого увлечения рисуя шариковой ручкой какого-то человечка на вырванном из тетради в клеточку листике.
На самом деле они не рисовали — они просто ждут, когда весь этот дурдом закончится.
— А что любите делать?
Молчат.
— Спорт любите?
— Да!
Лиза говорит, что любит гонять в футбол.
— От вас совсем недалеко линия фронта, вам не страшно?
Молчат.
— Солнышки, мне, например, страшно. Лиза, Настя?..
— Ну, нормально, — Лиза.
— Страшно, — Настя.
Иван и Артем кивают: да, страшно.
— Сколько вы уже не ходите в школу?
— Почти год, — отвечают Лиза и Иван.
От Насти узнаю, что полгода. Артем ходил в первый класс, а во второй — уже нет.
— А вы скучаете по школе? (Снова глупый вопрос.)
— Да…
Школа осталась на той стороне — разбитая, заселенная "ополченцами". Другие, я так поняла, далеко, а автобусного сообщения нет.
— Часто стреляют?
(Пауза.)
— Ну,.. нет, — говорит Лиза.
— Вы здесь всё время?
— Да.
— Не хотите уехать?
Молчат.
— Хочу, — сказала Настя тихо.
Мы еще о чем-то разговаривали, вдруг вижу — у Насти катятся слезы. Плачет тихо, как мышка. Мы об этом не говорим, но я понимаю, что она очень хочет выехать. Она об этом не сказала, но плачет именно поэтому.
— Эй, ты чего, подруга? — подбадривает Лиза.
На самом деле, мне легче от того, что Настя плачет, а не от того, что Лиза такая спокойная. Слезы Насти — невидимые. Кажется, это тихий плач заключенного. Только она не знает, за что сидит. Ей плохо, подсознание выталкивает это наружу, туда, где всем это безразлично.
Я сижу на полу, дети — на стульях, поэтому мне прекрасно видно опущенную Настину головку. Я думаю, что следовало бы сказать: "Настя, не плачь. Такие обстоятельства. Страна не готовилась к войне. Ты родилась не в том городе и не в то время. В твои неполные двенадцать ты должна ходить в школу, но, понимаешь, геополитика… Обстоятельства такие, что идет война. Тебе придется потерпеть. Ты — жертва. Вынужденная жертва. Мир бывает жестоким, ты рано это поняла. В мире много детей, которые страдают".
Эта мысль так и не превратится в слова. Вырастет — поймет.
Взрыв. Задрожали оконные стекла. Что-то разорвалось совсем неподалеку. Как нам потом сказали, метров за пятьсот.
Стреляют в основном ночью, но вот и днем началось. На какое-то время я теряю связь с детьми: за секунду у самой кровь успела и заледенеть, и вскипеть. Потом понимаю: дети не издали ни звука, даже не шелохнулись. Сидят, как и сидели. Мы переглянулись.
— Это не сильно, — говорит Лиза.
— Это нормально, — говорит мама.
Они и не сказали бы этого, если бы мы не спросили. Это — норма.
Выхожу во двор. Взрыв. Один, второй.
Из-за забора кричит Дато: "О, слушай, еще… Ну что? Весело? Как здесь можно жить?"
— Посмотрите, дети накормлены! Они завтракали утром! — аргументы мамы, что никуда ехать не надо.
— Да, это видно, что ваши дети не голодают. Но мы о другом — дети не могут жить в войне. Это ненормально. Вы не видите влияния сейчас, но последствия сможете увидеть через десять-двадцать лет, — не сдерживаюсь я.
— Ну, все ведь так живут!
— Не все!
— Мы смотрели по телевизору, показывали Жованку (соседнее село), там мамочки с грудными детьми, никто не выезжает…
— Какое вам дело до других? У вас свои дети!
… Нас провожают к дороге. Едем отсюда только мы. Раздаем детям фрукты, конфеты.
— Вот за это спасибо! -— на веселой ноте прощается бабушка.
***
На другом краю живет еще одна семья.
— Вот их надо вывезти. Они очень бедно живут. Ай, послушай: поле чистое, ямы от воронок, и забора нет, а люди живут, — никак не утихомирится Дато.
Приехали. Поле, во дворе метровые воронки и здесь, и там. До одури знакомая "картина маслом":
— Ну и что, что стреляют? Я здесь родилась, здесь и умру!
— И детей своих на тот свет заберете?
— …Мои дети будут со мной!
— Мы хотим вас вместе забрать!
— Я не хочу в лагере жить. Сидеть с мамочками, пока мой дом здесь растаскивают по кирпичикам, по доскам. Кому война, кому мать родна. А что я потом буду делать? Кто меня приютит с такой оравой детей? Куда деваться потом?
— Стрелять перестанут — вернешься!
— Некуда будет возвращаться.
— Ну а если ты детей здесь потеряешь?
— Я сказала — не поеду. Можете детей хоть с милицией забирать — я против. Я детей никогда даже на сутки не оставляла. А если оторвать их от меня, вырастут в приюте и через десять лет не вспомнят.
— Потому мы и хотим вывезти всех вместе! Только вместе! — не сдается Геннадий.
— Придется всё бросить! Телевизор, имущество…
— Разве телевизор стоит жизни?
— Полчаса ходьбы — и на той стороне дети полтора-два года. Все так живут.
…Пронзает отчаяние. Всё, что я знала о защите прав детей, здесь тает, как первый снег, разбивается о жестокую реальность как неуместная шутка. Такая же неуместная, как и эта долбаная аббревиатура "АТО", которой называют войну.
Оставляя взрослых на своих спутников, иду к детям.
Покосившиеся двери, заколоченные окна, спертый воздух. Трое ребят — Сергей, Максим и Андрей. Никто из этих школьников в школу давно не ходит.
— Вы хотели бы выехать и жить там, где не стреляют?
— Баранов жалко, и коз. Жалко их бросить.
— Но вы — дети, забудьте о хозяйстве. Вы хотели бы жить там, где не стреляют?
— Да, — все.
— Так давайте маму переубедим…
— Мама сказала, что нас заберут и продадут в Америку.
— Вы в это верите?
— Нет. Это ей ее мама наговорила, наша бабушка. Она живет на той стороне, в "ДНР".
— Вас не продадут в Америку, — я не могу подобрать больше слов. — Вы гуляете, выходите на улицу?
— Да, за домом.
— А вот поле перед домом, туда можно идти?
— Не-е-ет, — хором. — Там мины, растяжки.
Минут десять мы говорили, какие виды мин там есть, что им рассказывали об этом солдаты и что от дома далеко отходить нельзя. О жизни на линии фронта…
— В школе боеприпасы держат. Наши две бабушки в "ДНР", все друзья разъехались.
— Вам не страшно?
— Страшно, конечно!
— Страшно было, когда из окопа стреляли.
— Да это было еще год назад!
— Да ну! И этой осенью стреляли!
— У нас во дворе три воронки, и три воронки возле столба.
— Последний раз было совсем недавно, — говорю я.
— Да, мы в доме были. Я упал. Но земля была мягкая, они просто вверх полетели.
— В наш дом всего две пули попали. За всю войну.
— Три!
— Две!
— А, точно…
— А когда последний раз прилетало, было, наверное, страшно, сильный был звук? — спрашиваю.
— Совсем негромко было. Наш сосед говорит, что было очень слышно. Мы думали, что вообще где-то далеко, а на самом деле это было во дворе. Если не громко, значит близко.
— А что вы тогда делали? Спали?
— Когда света в доме нет, то спать не получается. Глаза не устают. Меня попросили ведро воды набрать. Там за домом упал снаряд, если бы земля была твердая или хотя бы подмороженная, меня бы убило. Я был прямо напротив окна, где "лег" снаряд.
***
Только находясь здесь, видя глаза детей во время взрывов, воронки глубиной в их рост, можно понять проблемы фронтовых детей. Читаю огромное интервью в ZN.UA с министром социальной политики Павлом Розенко. Малопонятные "верификации", отчеты о количестве взятых на учет переселенцев, наказания для так называемых пенсионных туристов… И победы — 5,6 млн человек охвачены субсидиями, благодаря чему удалось избежать социальных бунтов…
Но ведь социальная политика — это что-то другое, что-то связанное с людьми. И как раз они, кажется, не в компетенции Минсоцполитики. Так может, хотя бы честности ради, следует переименоваться в министерство пенсий, субсидий и льгот? Признайте, наконец, откровенно слабую, провальную работу Департамента защиты прав детей и усыновления, семейной политики, управления профилактики социального сиротства под крылом министерства. Кто из этих чиновников и когда бывает среди людей, пострадавших от последствий войны? Не на совещаниях и круглых столах, а здесь.
Кто общается с детьми в зоне боевых действий, в местах поселения? Еще раз — не с инспекцией ездит, а просто общается?
"Королевские", например, прокачивают здесь людей постоянно.
За что умирают наши солдаты? Они освобождают город, где, в конце концов, никто не работает с населением, особенно с незащищенными категориями, больше всего страдающими на этой войне. В результате на кого сливают свою злость местные? На военных…
***
Тишину села разрезает гулкий звук выстрела — солдаты стреляют по мишеням. Слышно на всю улицу.
За пять домов от меня выходит мама с одетым в комбинезончик голубого цвета мальчиком. Ему пять лет. Когда началась война, было три. Так что он практически не имеет представления о другой жизни. Он только что слышал ту же стрельбу из пистолета, что и я. Для него это норма. Огромные карие глаза, маленькие ручки, такое милое личико. На лавку садится его мама, пьяная в стельку.
— Да! Я пью! Нас поубивают! Я всю ночь просидела в погребе с ним! — стараясь навести на меня фокус, говорит мама.
Выходит еще одна женщина, тоже пьяная. Я знаю ее шестилетнюю дочь, зовем к нам.
— Поехали отсюда!
Но с кем говорить?
Дети берут фрукты и исчезают ,в разных направлениях с матерями. Женщины сняли стресс… Во сколько лет начнут пить эти дети?
***
Через 20-30 минут Зайцево растаяло за горизонтом вместе со своими взрывами, безысходностью, войной.
Мы в Артемовске — городе, полном жизни.
До какого же социального дна нужно скатиться, чтобы, рискуя жизнью детей, бояться покинуть свой сарай?
До какой степени нужно быть циничными, чтобы два года перекладывать в министерствах из одной стопки в другую бумажки, миллионы часов просидеть на эфирах всяческих шустеров и не сделать ничего, совсем ничего для этих детей?
Когда-то по долгу службы я объездила все детские колонии и СИЗО, была в большинстве интернатных заведений. Я видела детей, которые (отбывают наказание) за несколько старых котелков, украденных из заброшенного дома, чтобы сдать их на металлолом, или за мешок харчей. Это — последствия провальной социальной политики.
Уже два года, как на социально депрессивный регион обрушилась война. Но и это не мобилизовало чиновников.
Целый год ушел на принятие декларативного Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты детей и поддержки семей с детьми, в котором впервые речь идет об обязанности государства по отселению детей, оказавшихся или могущих оказаться в зоне военных действий или вооруженных конфликтов, в безопасные районы.
Теперь должны разработать меры. На это, возможно, тоже уйдет год…
Так и живем — в стране круговой поруки взрослых — не видим и не слышим детей..
— Аккумулятор не нравится. Не дай Бог, придется ремонтировать, — говорит Геннадий. — Надоело попрошайничать…
В беспрерывном волонтерстве он два года. Сейчас ищет деньги на дом под Славянском для семьи из Зайцево, чтобы все-таки спасти детей. А еще, не дай Бог, машину ремонтировать…
Один человек, глядя в лужу, видит звезды, другой — болото. Гениальная фраза Довженко. И если ты не знаешь духовных законов, это не значит, что их нет. Ведь есть сев — и есть жатва. И после первого наступает второе. Когда-нибудь эти дети будут рассказывать свою историю и свою правду внукам.
Когда-нибудь, во взрослой жизни, эти дети встретятся с вашими детьми. И тогда наступит жатва…»
(Все имена изменены.)